
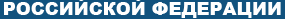


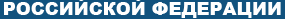


Угадать здорового человека несложно: осанка, уверенность движений, пропорционально и гармонично развитое тело являются бесспорными показателями внутреннего благополучия. Современное направление медицины — прикладная кинезиология — утверждает, что изменения в состоянии мышц могут стать надежным индикатором не только наличия определенных заболеваний, но и предрасположенности к ним. По их тонусу можно судить об общем состоянии организма и о многих скрытых проблемах, которые не всегда определяются методами классической диагностики. Об этом порталу UZRF.ru рассказал врач-невролог, мануальный терапевт, специалист медицинского центра «Вера» Андрей Новиков.



О «Записках врача» В. Вересаева
Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Но, пожалуй, столь же тщетны попытки понять прошлое, если не представляешь настоящего.
М. Блок
Врач — если он врач, а не чиновник врачебного дела — должен прежде всего бороться за устранение тех условий, которые делают его деятельность бессмысленной и бесплодной…
В. В. Вересаев
Передо мной лежит эта небольшая (311 страниц) книга издания 1901 года. Читаю ее и поражаюсь тому, как мало, в сущности, изменилось.
1.Обучение медицине
«На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественнонаучные предметы — химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знание настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладели мною — все вокруг меня и во мне самом, на что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным и меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня "открытия"».
Непонятен детский восторг автора перед изучением химии и ботаники (программа в гимназиях была не такая, как у нас в школе?). Мы с 5-го класса учили ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, биологию, а потом еще год теряли в институте: преподавание биологии было абсолютно схоластическим. Потом пошло-поехало: пять химий, история КПСС, политэкономия, атеизм, научный коммунизм, этика и эстетика, физика и высшая математика, четыре месяца были потеряны в колхозах. Если сложить все это, получается, что год-полтора ушло впустую. Понятно, впрочем, для чего все это делалось: естественные науки с марксистско-ленинской подкладкой должны были сформировать у нас материалистический взгляд на сущее. Пригодилась ли мне за 35 лет работы хоть малая крупица этих знаний? Пригодилась только биохимия (в аспирантуре). Не приходится удивляться тому, что на выходе из вуза мы представляли собой «полуфабрикат». Да и материалистов из нас вряд ли сформировали: многие верят в «сон, чох и вороний грай». И в сглаз, и в БАДы, и в прочую ересь. Если бы не верили, то не погрузилась бы Россия в мракобесие и псевдонауку. Жаль зря потраченное время.
.jpg) Заметно изменились студенты: во времена Вересаева они часто и по возрасту были старше, и воспринимались как более зрелые, чем нынешние мальчики и девочки. Вчерашние школяры с айпадами и айфонами — какое дело им до больных бабушек? О каком сострадании и понимании психологии больного человека может идти речь? Они не учатся, а тусуются. Как будто дети собрались поиграть в докторов! Слушать смешно. А вот как видел проблему В. Вересаев: «Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии: существование медицинской школы — школы гуманнейшей из всех наук — немыслимо без попрания самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бедняков лечиться на собственные средства, наша школа обращает больных в манекены для упражнений,… но не делать этого школа не может; по доброй воле мало кто из больных согласился бы служить науке». Действительно, тогда существовало правило, что больного бесплатно госпитализировали в клинику только в том случае, если он соглашался стать объектом изучения для студентов. Отказ от этого означал немедленную выписку из клиники! А где же Гиппократ и его заповеди? А ведь и эти жертвы больного, судя по всему, были едва ли не напрасны: «…мы баричами посещали клиники, проводя у постели больного по десяти-пятнадцати минут; мы с грехом пополам изучали болезни, но о больном человеке не имели даже самого отдаленного представления», — говорит Вересаев. Действительно, мы потратили на изучение «тела» 8000 часов, а на изучение «души» — 90. Об основах медицинской психологии и уж тем более таких ее дебрей, как психология больного человека, даже представления не было никакого. Но сейчас и анатомию человека изучают по картинкам! «Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом; заняты мы были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое‑то лихорадочное метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс; как в быстро поворачиваемом калейдоскопе, перед нами сменялись самые разнообразные вещи: резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, наложение акушерских щипцов, значение Сиденгама в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания леффлеровых бацилл, местонахождение подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически: желание продумать воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором сыпавшихся все новых и новых знаний; и эти новые знания приходилось складывать в себе так же механически и утешаться мыслью: "потом, когда у меня будет больше времени, я все это обдумаю и приведу в порядок"… Но время шло, знания мои приумножались; был окончен пятый курс, уж начались выпускные экзамены, а я чувствовал себя по-прежнему беспомощным и неумелым, неспособным ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шаг. Между тем я видел, что стою ничуть не ниже моих товарищей; напротив, я стоял выше большинства. Что же выйдет из нас?» Знакомая картина? Конечно, знакомая! Поразительно, что за сто лет практически ничего не изменилось: «сумбур вместо музыки» в голове студента нисколько не уменьшился.
Заметно изменились студенты: во времена Вересаева они часто и по возрасту были старше, и воспринимались как более зрелые, чем нынешние мальчики и девочки. Вчерашние школяры с айпадами и айфонами — какое дело им до больных бабушек? О каком сострадании и понимании психологии больного человека может идти речь? Они не учатся, а тусуются. Как будто дети собрались поиграть в докторов! Слушать смешно. А вот как видел проблему В. Вересаев: «Здесь мы наталкиваемся на одно из тех противоречий, которые еще так часто будут встречаться нам впоследствии: существование медицинской школы — школы гуманнейшей из всех наук — немыслимо без попрания самой элементарной гуманности. Пользуясь невозможностью бедняков лечиться на собственные средства, наша школа обращает больных в манекены для упражнений,… но не делать этого школа не может; по доброй воле мало кто из больных согласился бы служить науке». Действительно, тогда существовало правило, что больного бесплатно госпитализировали в клинику только в том случае, если он соглашался стать объектом изучения для студентов. Отказ от этого означал немедленную выписку из клиники! А где же Гиппократ и его заповеди? А ведь и эти жертвы больного, судя по всему, были едва ли не напрасны: «…мы баричами посещали клиники, проводя у постели больного по десяти-пятнадцати минут; мы с грехом пополам изучали болезни, но о больном человеке не имели даже самого отдаленного представления», — говорит Вересаев. Действительно, мы потратили на изучение «тела» 8000 часов, а на изучение «души» — 90. Об основах медицинской психологии и уж тем более таких ее дебрей, как психология больного человека, даже представления не было никакого. Но сейчас и анатомию человека изучают по картинкам! «Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом; заняты мы были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое‑то лихорадочное метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс; как в быстро поворачиваемом калейдоскопе, перед нами сменялись самые разнообразные вещи: резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, наложение акушерских щипцов, значение Сиденгама в медицине, зондирование слезных каналов, способы окрашивания леффлеровых бацилл, местонахождение подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и т. д., и т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически: желание продумать воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором сыпавшихся все новых и новых знаний; и эти новые знания приходилось складывать в себе так же механически и утешаться мыслью: "потом, когда у меня будет больше времени, я все это обдумаю и приведу в порядок"… Но время шло, знания мои приумножались; был окончен пятый курс, уж начались выпускные экзамены, а я чувствовал себя по-прежнему беспомощным и неумелым, неспособным ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шаг. Между тем я видел, что стою ничуть не ниже моих товарищей; напротив, я стоял выше большинства. Что же выйдет из нас?» Знакомая картина? Конечно, знакомая! Поразительно, что за сто лет практически ничего не изменилось: «сумбур вместо музыки» в голове студента нисколько не уменьшился.
Вообще, В. В. Вересаеву было грех жаловаться на свою учебу. В Дерптском университете, где он учился, в то время преподавали талантливые терапевты Г. Уферрихт и К. Дегио и великий психиатр Эмиль Крепелин. Там была единственная в России поликлиника при медицинском университете. Летом вместе с отцом В. Вересаев (тогда еще Смидович) вел прием в лечебнице Общества тульских врачей. Был он и т. н. субассистентом ординарного профессора частной патологии и терапии Степана Михайловича Васильева (1854–1903). Вот это была личность примечательная. Считавшийся учеником С. П. Боткина, Васильев перебежал в «лагерь» Г. А. Захарьина и всячески чернил «боткинский метод» в работе «Методы клинического исследования больных» (1893). Но «прославился» он не этим, а своим высказыванием: «Требуйте от каждого больного 10 рублей, но ни в коем случае 1 рубль или несколько рублей, а то вас ославят как человека жадного к деньгам, за кого народ и без того принимает большинство врачей. Если вы в денежных делах будете поступать таким образом, то больные с уважением будут взирать на ваши медицинские познания». Вот это круто! Но Вересаев, к счастью, этому совету не внял. Правда, скоро он оставил медицинское поприще совсем.
А вот мнение современного историка: врачи в конце XIX века«успешно распознавали многие болезни, потому что владели отточенным мастерством непосредственного обследования больного, … имели от природы врачебный дар наблюдения и интуиции и от клинических учителей — воспитанное клиническое мышление. …они и без ультразвука и фонокардиографии могли поставить диагноз порока сердца, указать его локализацию и характер. Их натренированные в перкуссии пальцы точно определяли изменение границ сердца, а изощренный слух фиксировал своеобразие его «мелодии»; им не требовалась электрокардиограмма, чтобы распознать острый тромбоз коронарных сосудов, … а гипертонию они уверенно определяли по характеру пульса... Понятно, что речь идет о профессионалах высокого уровня, гроссмейстерах и мастерах врачебного искусства. Основная масса врачей, не владевших в совершенстве методами непосредственного исследования и навыками клинического мышления и не имевших в своем распоряжении наших средств инструментального исследования больного и алгоритмов инструментальной диагностики, сплошь и рядом оказывались безоружными перед диагностическими трудностями врачебной практики» (В. И. Бородулин, 2011). Сколько таких гроссмейстеров и мастеров врачебного искусства было в России тогда? Единицы профессоров на клинических кафедрах. Но Вересаев был добросовестным учеником! В Москве в 1915 году было больше ста больниц, свыше 500 частных лечебниц и санаториев, более 2600 врачей занимались частной практикой. А сколько среди них было истинных звезд, истинных корифеев, истинных маэстро? Но каждый претендовал на гонорар, разумеется! Потому и встретили книгу Вересаева столь агрессивно: уж слишком явно шило лезло из мешка!
2. Ограниченные возможности медицины
«Рядом с тою парадною медициною, которая лечит и воскрешает и для которой я сюда поступил, передо мною все шире развертывалась другая медицина — немощная, бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может вылечить. В руководствах я встречал описание болезней, которые оканчивались замечанием: "диагноз этой болезни возможен лишь на секционном столе", как будто такой своевременный диагноз кому-нибудь нужен! В лечении болезней меня поражала чрезвычайная шаткость и неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни средств — и рядом с этим крайняя неуверенность в действительности этих средств.… Мы еще очень мало знаем человеческий организм и управляющие им законы. Применяя новое средство, врач может заранее лишь с большею или меньшею вероятностью предвидеть, как это средство будет действовать; может быть, оно окажется полезным; но если оно и ничего не принесет, кроме вреда, то все же дивиться будет нечему: игра идет втемную, и нужно быть готовым на все неожиданности. До известной степени возможность таких неожиданностей уменьшается тем, что средства предварительно испытываются на животных; это громадная поддержка, но организмы животных и человека все-таки слишком различны, и безошибочно заключать от первых ко вторым нельзя. И вот к человеку подходят только с известною возможностью, что применяемое средство поможет ему или не повредит; тут всегда больший или меньший риск, расчеты могут не оправдаться, и притом это не всегда сразу делается очевидным: клиническое наблюдение трудно и сложно; часто бывает, что средство долго производит благоприятное впечатление, а затем оказывается, что это было лишь результатом самовнушения». Понятно, почему стала необходимой «доказательная медицина» и «двойной слепой метод»! Но в целом и современная фармакология имеет массу подводных камней и нередко дает повод для разочарования в очередной панацее.
.jpg) «Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности, защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше — это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды, незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку… Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно "случайностью", при настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые — от довольства, работающие — от напряжения, бездельники — от праздности; неосторожные — от неосторожности, осторожные — от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. …меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек — это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы». Какой бы гротескной ни казалась эта фраза, сейчас заболеваемость неинфекционными болезнями растет не только у алкоголиков и бомжей. Вполне добропорядочный и умеренный человек запросто может умереть от аритмии или рака поджелудочной железы, как С. Джобс, например. Сколько людей уже унес рак! И дамоклов меч фатального заболевания висит над любым ребенком или взрослым. Это смятение, холодок страха перед внезапностью и часто неотвратимостью страдания — от них никакие высокие технологии не спрячут! В. Вересаев не считал «приколом» врачебный афоризм, гласящий: «Здоровых нет, есть недообследованные»!
«Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности, защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше — это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды, незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку… Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно "случайностью", при настоящих же условиях болеют все: бедные болеют от нужды, богатые — от довольства, работающие — от напряжения, бездельники — от праздности; неосторожные — от неосторожности, осторожные — от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. …меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек — это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы». Какой бы гротескной ни казалась эта фраза, сейчас заболеваемость неинфекционными болезнями растет не только у алкоголиков и бомжей. Вполне добропорядочный и умеренный человек запросто может умереть от аритмии или рака поджелудочной железы, как С. Джобс, например. Сколько людей уже унес рак! И дамоклов меч фатального заболевания висит над любым ребенком или взрослым. Это смятение, холодок страха перед внезапностью и часто неотвратимостью страдания — от них никакие высокие технологии не спрячут! В. Вересаев не считал «приколом» врачебный афоризм, гласящий: «Здоровых нет, есть недообследованные»!
«Вот передо мною этот загадочный, недоступный мне живой организм, в котором я так мало понимаю. Какие силы управляют им, каковы те тончайшие процессы, которые непрерывно совершаются в нем? В чем суть действия вводимых в него лекарств, в чем тайна зарождения и развития болезни?
Ко мне обращается за помощью девушка, страдающая мигренями. В чем суть этой мигрени? Во время припадка лоб у больной становится холодным, а зрачок расширяется; девушка малокровна; все это указывает на то, что причиною мигрени в данном случае является раздражение симпатического нерва, вызванное общим малокровием. Хорошее объяснение! Но каким образом и почему малокровие вызвало в этом случае раздражение симпатического нерва? Где и каковы те целительные силы организма, которые борются с происшедшим расстройством и которые я должен поддержать?» Мигрень до сих пор остается загадкой, и трудностей в ее лечении предостаточно.
«Я не имею даже отдаленного представления о типических процессах, общих всем человеческим организмам; а между тем каждый больной предстает передо мной во всем богатстве и разнообразии своих индивидуальных особенностей и отклонений от средней нормы. Что могу я знать об них? Двое на вид совершенно одинаково здоровых людей промочили себе ноги; один получил насморк, другой — острый суставной ревматизм. Почему? На основании совершенно ничтожных данных я должен строить выводы, такие важные для жизни и здоровья моего больного... В таких случаях меня охватывали ярость и отчаяние: да что же это за наука моя, которая оставляет меня таким слепым и беспомощным?! И чем дальше, тем чаще приходилось мне испытывать такое чувство. Даже там, где…диагноз казался мне ясным, действительность то и дело опровергала меня; часто же я стоял перед больным в полном недоумении: какие-то жалкие, ничего не говорящие данные, — строй из них что-нибудь! И я ночи напролет расхаживал по комнате, обдумывая и сопоставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог прийти; если же я, наконец, и ставил диагноз, то меня все-таки все время грызла неотгонимая мысль: "А если моя догадка не верна? Какая у меня возможность проверить ее правильность?" И всю жизнь жить и действовать под непрерывным гнетом такой неуверенности!..
… Но, скажем, диагноз болезни я поставил правильно. Мне нужно ее лечить. Какие гарантии дает мне наука в целесообразности и действительности рекомендуемых ею средств? Суть действия большинства из этих средств для нас еще крайне неясна, и показания к их употреблению наука устанавливает эмпирически, путем клинического наблюдения. Но мы уже знаем, как непрочно и обманчиво клиническое наблюдение. Данное средство, по единогласным свидетельствам всех наблюдателей, действует превосходно, а через год-другой оно уже выбрасывается за борт, как бесполезное или даже вредное». Поразительно, как прав Вересаев: ни один из препаратов, которыми мы лечили гипертонию 30 лет назад, уже не применяется. Пришло уже пятое и шестое поколение лекарств! «В том бесконечно сложном и непонятном процессе, который представляет собою жизнь больного организма, переплетаются тысячи влияний — бесчисленные способы вредоносного действия данной болезни и окружающей среды, бесчисленные способы целебного противодействия сил организма и той же окружающей среды, — и вот тысяча первым влиянием является наше средство. Как определить, что именно в этом сложном деле вызвано им?» Любопытно спросить об этом нынешнего шестикурсника или клинического ординатора!
3. Врач и больной
«…мне все чаще стала приходить в голову мысль: …какой смысл может иметь врачебная деятельность? Для чего эта игра в жмурки, для чего обман общества, думающего, что у нас есть какая-то "медицинская наука"? Пусть этим занимаются гомеопаты и подобные им мудрецы, которые с легким сердцем все бесконечное разнообразие жизненных процессов втискивают в пару догматических формул. …я начинал все больше убеждаться, что сам я лично совершенно негоден к выбранному мною делу и что, решая отдаться медицине, я не имел самого отдаленного представления о тех требованиях, которым должен удовлетворять врач.
.jpg) При теперешнем несовершенстве теоретической медицины медицина практическая может быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе почувствовать всю тяжесть вытекающих отсюда последствий, чтобы ясно понять, что это значит. …настоящий врач… мог бы поставить правильный диагноз: его совершенно особенная творческая наблюдательность уцепилась бы за массу неуловимых признаков, которые ускользнули от меня, бессознательным вдохновением он возместил бы отсутствие ясных симптомов и почуял бы то, чего не в силах познать. Но таким настоящим врачом может быть только талант, как только талант может быть настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на медицинский факультет, думал, что медицине можно научиться... Я думал, что для этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного развития; с этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке… Когда медицина станет наукой — единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет; тогда обыкновенный средний человек сможет быть врачом. В настоящее же время "научиться медицине", т. е. врачебному искусству, так же невозможно, как научиться поэзии или искусству сценическому. И есть много превосходных теоретиков, истинно "научных" медиков, которые в практическом отношении не стоят ни гроша. Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? Почему вообще я имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет меня в будущем? Как все это просто произошло! Мы представили свои аттестаты зрелости, были приняты на медицинский факультет, и профессора начали читать лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на будущее, никто не объяснил, что ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность казалась такой несложной и ясной! Исследовал больного — и говоришь: больной болен тем-то, он должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так, но на то, чтобы убедиться в этом, я должен был убить семь лучших лет молодости. …Да, наука дает мне не так много, как я ждал, и я не талант. Но прав ли
При теперешнем несовершенстве теоретической медицины медицина практическая может быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе почувствовать всю тяжесть вытекающих отсюда последствий, чтобы ясно понять, что это значит. …настоящий врач… мог бы поставить правильный диагноз: его совершенно особенная творческая наблюдательность уцепилась бы за массу неуловимых признаков, которые ускользнули от меня, бессознательным вдохновением он возместил бы отсутствие ясных симптомов и почуял бы то, чего не в силах познать. Но таким настоящим врачом может быть только талант, как только талант может быть настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на медицинский факультет, думал, что медицине можно научиться... Я думал, что для этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного развития; с этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке… Когда медицина станет наукой — единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет; тогда обыкновенный средний человек сможет быть врачом. В настоящее же время "научиться медицине", т. е. врачебному искусству, так же невозможно, как научиться поэзии или искусству сценическому. И есть много превосходных теоретиков, истинно "научных" медиков, которые в практическом отношении не стоят ни гроша. Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? Почему вообще я имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет меня в будущем? Как все это просто произошло! Мы представили свои аттестаты зрелости, были приняты на медицинский факультет, и профессора начали читать лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на будущее, никто не объяснил, что ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность казалась такой несложной и ясной! Исследовал больного — и говоришь: больной болен тем-то, он должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так, но на то, чтобы убедиться в этом, я должен был убить семь лучших лет молодости. …Да, наука дает мне не так много, как я ждал, и я не талант. Но прав ли
я, отказываясь от своего диплома? Если в искусстве в данный момент нет Толстого или Бетховена, то можно обойтись и без них; но больные люди не могут ждать, и для того, чтобы всех их удовлетворить, нужны десятки тысяч медицинских Толстых и Бетховенов. Это невозможно. А в таком случае так ли уж бесполезны мы, ординарные врачи? Все-таки, беря безотносительно, наукою отвоевана от искусства уж очень большая область, которая с каждым годом все увеличивается. Эта область в наших руках. Но и в остальной медицине мы можем быть полезны и делать очень много. Нужно только строго и неуклонно следовать старому правилу: "primum non nocere — прежде всего не вредить". Это должно главенствовать над всем. Нужно, далее, раз навсегда отказаться от представления, что деятельность наша состоит в спокойном и беззаботном исполнении указаний науки. Понять всю тяжесть и сложность дела, к каждому новому больному относиться с неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, непрерывно и напряженно искать и работать над собою, ничему не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело, и под бременем этим можно изнемочь…
Общество живет слишком неверными представлениями о медицине, и это главная причина его несправедливого отношения к врачам; оно должно узнать силы и средства врачебной науки и не винить врачей в том, в чем виновато несовершенство науки. Тогда и требовательность к врачам понизилась бы до разумного уровня. А впрочем, — понизилась ли бы она и тогда? Чувство не знает и не хочет знать логики. В обществе к медицине и врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграмм и анекдотов. Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкою, больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью.
.jpg) Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом — источник большинства недоразумений, в этом — причина как слепой веры во всемогущество медицины, так и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми последствиями. В публике сильно распространены всевозможные "общедоступные лечебники" и популярные брошюры о лечении; в мало-мальски интеллигентной семье всегда есть домашняя аптечка, и раньше, чем позвать врача, на больном испробуют и касторку, и хинин, и салициловый натр, и валерьянку… Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей, вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую науку, было разумное понимание этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляет собою новую, неповторяющуюся болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко не всегда может и врач со всеми его знаниями. На невежественной вере во всесилие медицины основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам. Особенно богатый материал для отрицания медицины дают ошибки врачей. У меня есть один знакомый, три года у него сильно болит правое колено; один врач определил туберкулез, другой — сифилис, третий — подагру; и облегчения ни от кого нет. Отсюда вывод может быть только один: иногда болезни проявляются в таких темных и неясных формах, что правильный диагноз возможно поставить только случайно. Но каждый человек судит по тому, что испытывает на себе; и знакомый мой говорит: "Ваше занятие для общества то же, что для человека галстук: галстук совершенно бесполезен, но ходить без него цивилизованному человеку неприлично; и он покорно платит за галстук деньги, и люди, приготовляющие галстуки, думают, что делают что-то нужное...".
Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом — источник большинства недоразумений, в этом — причина как слепой веры во всемогущество медицины, так и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми последствиями. В публике сильно распространены всевозможные "общедоступные лечебники" и популярные брошюры о лечении; в мало-мальски интеллигентной семье всегда есть домашняя аптечка, и раньше, чем позвать врача, на больном испробуют и касторку, и хинин, и салициловый натр, и валерьянку… Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей, вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую науку, было разумное понимание этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляет собою новую, неповторяющуюся болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко не всегда может и врач со всеми его знаниями. На невежественной вере во всесилие медицины основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам. Особенно богатый материал для отрицания медицины дают ошибки врачей. У меня есть один знакомый, три года у него сильно болит правое колено; один врач определил туберкулез, другой — сифилис, третий — подагру; и облегчения ни от кого нет. Отсюда вывод может быть только один: иногда болезни проявляются в таких темных и неясных формах, что правильный диагноз возможно поставить только случайно. Но каждый человек судит по тому, что испытывает на себе; и знакомый мой говорит: "Ваше занятие для общества то же, что для человека галстук: галстук совершенно бесполезен, но ходить без него цивилизованному человеку неприлично; и он покорно платит за галстук деньги, и люди, приготовляющие галстуки, думают, что делают что-то нужное...".
…во многом мы ведь, действительно, бессильны, невежественны и опасны; вина в этом не наша, но это именно и дает пищу неверию в нашу науку и насмешкам над нами. И передо мною все настойчивее начал вставать вопрос: это недоверие и эти насмешки я признаю неосновательными, им не должно быть места по отношению ко мне и к моей науке, — как же мне для этого держаться с пациентом? Прежде всего нужно быть с ним честным. Именно потому, что сами мы скрываем от людей истинные размеры доступного нам знания, к нам и возможно то враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаем к себе. Одно из главных достоинств Льва Толстого как художника заключается в поразительно человечном и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц; единственное исключение он делает для врачей: их Толстой не может выводить без раздражения и почти тургеневского подмигивания читателю. Есть же, значит, что-то, что так восстановляет всех против нас. И мне казалось, что это "что-то" есть именно окутывание себя туманом и возбуждение к себе преувеличенного доверия и ожиданий. Этого не должно быть.
… А как я могу держаться "честно" с неизлечимыми больными? С ними все время приходится лицемерить и лгать, приходится пускаться на самые разнообразные выдумки, чтобы вновь и вновь поддержать падающую надежду. Больной, по крайней мере до известной степени, всегда сознает эту ложь, негодует на врача и готов проклинать медицину. Как же держаться? … Больной сердится, когда врач не говорит ему правды; я был настолько молодо-прямолинеен, что, при настойчивом требовании, говорил больному правду; только постепенно я понял, что в действительности значит, когда больной хочет правды, уверяя, что не боится смерти; это значит: "если надежды нет, то лги мне так, чтоб я ни на секунду не усомнился, что ты говоришь правду".
Везде, на каждом шагу приходится быть актером; особенно это необходимо потому, что болезнь излечивается не только лекарствами и назначениями, но и душою самого больного; его бодрая и верящая душа — громадная сила в борьбе с болезнью, и нельзя достаточно высоко оценить эту силу; меня первое время удивляло, насколько успешнее оказывается мое лечение по отношению к постоянным моим пациентам, горячо верящим в меня и посылающим за мною с другого конца города, чем по отношению к пациентам, обращающимся ко мне в первый раз; я видел в этом довольно комичную игру случая; постепенно только я убедился, что это вовсе не случайность, что мне, действительно, могучую поддержку оказывает завоеванная мною вера, удивительно поднимающая энергию больного и его окружающих. Больной страшно нуждается в этой вере и чутко ловит в голосе врача всякую ноту колебания и сомнения... И я стал привыкать держаться при больном самоуверенно, делать назначения самым докторальным и безапелляционным тоном, хотя бы в душе в это время поднимались тысячи сомнений. И веру в себя недостаточно завоевать раз, приходится все время завоевывать ее непрерывно. У больного болезнь затягивается; необходимо зорко следить за душевным состоянием его и его окружающих; как только они начинают падать духом, следует, хотя бы наружно, переменить лечение, назначить другое средство, другой прием; нужно цепляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фантазии, тонко считаясь с характером и степенью развития больного и его близких.
… врач может обладать громадным распознавательным талантом, уметь улавливать самые тонкие детали действия своих назначений — и все это останется бесплодным, если у него нет способности покорять и подчинять себе душу больного. Медицина есть наука о лечении людей. Так оно выходило по книгам, так выходило и по тому, что мы видели в университетских клиниках. Но в жизни оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних лишь богатых и свободных людей (выделено мною — Н. Л.). По отношению ко всем остальным она являлась лишь теоретическою наукой о том, как можно было бы вылечить их, если бы они были богаты и свободны; а то, что за отсутствием последнего приходилось им предлагать на деле, было не чем иным, как самым бесстыдным поруганием медицины». Классно сказано!
«Да, не нужно ничего принимать к сердцу, нужно стоять выше страданий, отчаяния, ненависти, смотреть на каждого больного как на невменяемого, от которого ничего не оскорбительно. Нужно ко всему этому привыкнуть, не нужно тяготиться таким отношением, потому что это лежит в самой сути дела. Но часто, особенно с неизлечимыми, хроническими больными, вся сила привычки и все усилия воли не могут устоять перед взрывами ярой ненависти отчаявшегося больного к врачу. Высшую радость для врача составляет возможность отказаться от такого больного, но при всей своей ненависти больной часто цепко держится за врача и ни за что не хочет его переменить.
…Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. Неожиданное ухудшение в состоянии поправляющегося больного, неизлечимый больной, требующий от тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, наконец, сама атмосфера страдания и горя, окружающая тебя, — все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смутной, не успокаивающейся тревоги… Бывает, что совершенно падают силы нести такую жизнь; охватит такая тоска, что хочется бежать, бежать подальше, всех сбыть с рук, хотя на время почувствовать себя свободным и спокойным. Так жить всегда — невозможно. И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдаю от ненависти и несправедливости больных; меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность».
4. Медицина и общество
«Да, за свой труд, как всякий работник, врач имеет право получать вознаграждение, и ему нечего стыдиться этого; ему нечего принимать плату тайно и конфузливо, как какую-то позорную, незаконную взятку. Обществу известны светлые образы самоотверженных врачей-бессребреников, и такими оно хочет видеть всех врачей. Желание, конечно, вполне понятное; но ведь было бы еще лучше, если бы и само общество состояло сплошь из идеальных людей. Средний врач есть обыкновенный средний человек, и от него можно требовать лишь того, чего можно требовать от среднего человека. И если он не желает трудиться даром, то какое право имеют клеймить его за корыстолюбие люди, которые свой собственный труд умеют оценивать весьма зорко и старательно? (выделено мною — Н. Л.)
.jpg) … от заразных болезней умирает 37 % русских врачей вообще, около шестидесяти процентов земских врачей в частности. В 1892 году половина всех умерших земских врачей умерла от сыпного тифа. … Проф. Сикорский на основании официальных данных исследовал вопрос о самоубийстве среди русских врачей. Он нашел, что "в годы от 25 до 35 лет самоубийства врачей составляют почти 10 % обычной смертности, т. е. в эти годы из десяти умерших врачей один умирает от самоубийства". Цифра эта до того ужасна, что кажется невероятною. Проф. Сикорский занялся, далее, сопоставлением своих данных с данными относительно других профессий в России и Западной Европе. Оказалось, что "русские врачи имеют печальную привилегию занимать первое место в свете по числу самоубийств" (выделено мною — Н. Л.). … "Околоточные надзиратели, дворники и швейцары Петербурга обеспечиваются лучше служащих врачей". Это вовсе не преувеличение. Врачи многих городских больниц получают у нас 45-50 руб. в месяц; в Петербурге только совсем недавно жалованье больничным врачам увеличено до 75 руб. Городовые врачи, обремененные массою самых разнообразных обязанностей, получают жалованья двести рублей в год. 16 % всех служащих врачей получают жалованья меньше 600 руб. в год и 62 % — не более 1200 рублей. Очень распространено мнение, что незначительность получаемого содержания врачи легко восполняют частною практикою, что этим именно и объясняются скудные размеры назначаемого им содержания. Но ведь для частной практики прежде всего требуется свободное распоряжение своим временем; она не может не отзываться на аккуратном несении службы, — это лежит в самой сути условий частной практики. Между тем, если врач "небрежно" относится к своей службе, то на него летят громы, и в это время люди забывают, что они же сами указывают на частную практику как на подсобный заработок к скудному жалованью. Кроме того, этот подсобный заработок, вопреки общераспространенному мнению, очень невелик — у 77 % всех врачей (считая и вольнопрактикующих) заработок по частной практике не превышает тысячи рублей в год. Мало есть интеллигентных профессий, труд которых вознаграждался бы хуже…
… от заразных болезней умирает 37 % русских врачей вообще, около шестидесяти процентов земских врачей в частности. В 1892 году половина всех умерших земских врачей умерла от сыпного тифа. … Проф. Сикорский на основании официальных данных исследовал вопрос о самоубийстве среди русских врачей. Он нашел, что "в годы от 25 до 35 лет самоубийства врачей составляют почти 10 % обычной смертности, т. е. в эти годы из десяти умерших врачей один умирает от самоубийства". Цифра эта до того ужасна, что кажется невероятною. Проф. Сикорский занялся, далее, сопоставлением своих данных с данными относительно других профессий в России и Западной Европе. Оказалось, что "русские врачи имеют печальную привилегию занимать первое место в свете по числу самоубийств" (выделено мною — Н. Л.). … "Околоточные надзиратели, дворники и швейцары Петербурга обеспечиваются лучше служащих врачей". Это вовсе не преувеличение. Врачи многих городских больниц получают у нас 45-50 руб. в месяц; в Петербурге только совсем недавно жалованье больничным врачам увеличено до 75 руб. Городовые врачи, обремененные массою самых разнообразных обязанностей, получают жалованья двести рублей в год. 16 % всех служащих врачей получают жалованья меньше 600 руб. в год и 62 % — не более 1200 рублей. Очень распространено мнение, что незначительность получаемого содержания врачи легко восполняют частною практикою, что этим именно и объясняются скудные размеры назначаемого им содержания. Но ведь для частной практики прежде всего требуется свободное распоряжение своим временем; она не может не отзываться на аккуратном несении службы, — это лежит в самой сути условий частной практики. Между тем, если врач "небрежно" относится к своей службе, то на него летят громы, и в это время люди забывают, что они же сами указывают на частную практику как на подсобный заработок к скудному жалованью. Кроме того, этот подсобный заработок, вопреки общераспространенному мнению, очень невелик — у 77 % всех врачей (считая и вольнопрактикующих) заработок по частной практике не превышает тысячи рублей в год. Мало есть интеллигентных профессий, труд которых вознаграждался бы хуже…
Люди, даже сравнительно образованные, нередко высказывают мнение, что причиною бедственного положения врачей является их тяготение к городам. Врачи не хотят идти в глушь, а хотят непременно жить в культурных центрах. Деревня, действительно, гибнет и вырождается, не зная врачебной помощи. Но неужели причина этого лежит в том, что у нас мало врачей? Половина русского населения ходит в лаптях, — неужели это оттого, что у нас мало сапожников? Увеличивайте число сапожников без конца — в результате получится лишь одно: самим сапожникам придется ходить в лаптях, а кто ходил в лаптях, тот и будет продолжать ходить в них. Врачи вовсе не обладают таким странным вкусом, чтоб предпочитать голодовку в городах куску хлеба в глуши. …вопрос в том, может ли средний врач, — не подвижник, а обыкновенный работник, — прожить в деревне врачебным трудом. Материальная обеспеченность врачей все больше ухудшается…
Все время нервы напряжены, все время жизнь бьет по этим нервам; чтоб безнаказанно переносить такое состояние, нужна громадная нервная сила, а между тем жить приходится так, что и самая железная устойчивость должна разрушиться. Для меня нет праздников, нет гарантированного отдыха; каждую минуту, от сна, от еды, меня могут оторвать на целые часы, и никому нет дела до моих сил. И вот с каждым годом все больше обращаешься в развалину-неврастеника; пропадает радость жизни и любовь к ней; пропадает, еще страшнее, отзывчивость и способность горячо чувствовать. А между тем видишь, что это есть еще в душе: стоит хоть немного пожить человеческой жизнью — и душа возрождается, и кажется, что в ней так много силы и любви.
А в каких я условиях живу? После пятилетнего ожидания я, наконец, получил в больнице жалованье в семьдесят пять рублей; на него и на неверный доход с частной практики я должен жить с женой и двумя детьми; вопросы о зимнем пальто, о покупке дров и найме няни — для меня тяжелые вопросы, из-за которых приходится мучительно ломать себе голову и бегать по ссудным кассам. … Я даже лишен семейных радостей, лишен возможности спокойно приласкать своего ребенка, потому что в это время мелькает мысль: а что, если со своей лаской я перенесу на него ту оспу или скарлатину, с которой сегодня имел дело у больного?» А вот и профессиональное выгорание врача. Тогда и термина-то такого не знали, а выгорали дотла!
«И выход для нас один: мы, врачи, должны объединиться, должны совместными силами бороться с этим чудовищем и отвоевать себе лучшую и более свободную долю».
Ничего, в сущности, не изменилось — ни в обучении медицине, ни в отсутствии у абсолютного большинства поступающих в вузы призвания и вообще какой-либо профессиональной пригодности, ни в состоянии (с поправкой на время) медицинской науки, ни в положении врачебного сообщества и отношении общества к нему. Казалось бы, и страна рушилась уже не один раз, и форма правления менялась, а вот ситуация с дураками, дорогами и медициной стабильна!
Николай Ларинский, 2014

