
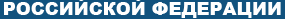


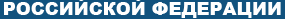


Шум относится к числу физических факторов, способных в случае несоответствия гигиеническим требованиям оказывать отрицательное воздействие на человека. Повышенный уровень звука не просто неприятен для слуха, но может привести к серьезным физиологическим нарушениям.
Как в нашем городе идет борьба за тишину, корреспонденту портала uz-rf.com рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Рязанской области Татьяна Пахмутова.



История болезни Григория Захарьина
Григорий Антонович Захарьин (1829–1897) — выпускник Московского университета, ученик и верный последователь А. И. Овера, доктор медицины (1854). В 1856–1859 гг. прошел стажировку в Берлине в клиниках Л. Траубе, М. Ромберга, Г. Эберта (Hermann Friedrich Ludwig Ebert, 1814–1872), А. Грефе (Albrecht von Graefe, 1828–1870), Ф. Береншпрунга (который был уже на пороге манифестации прогрессивного паралича) и у анатома К. Рейхерта (Karl Boguslav Reichert, 1811–1883); в Вене — в клиниках Й. Шкоды, Э. Колиско (Eugen Colisko, 1811–1884, приват-доцент в клинике Шкоды, преподававший перкуссию и аускультацию, затем профессор клиники грудных болезней), И. Оппольцера, К. Гельма (Karl Helm, 1808–1875), Ф. Гебры и К. Зигмунда (Karl Ludwig Sigmund, 1810–1883), в лабораториях И. Геллера (Johann Florian Heller, 1813–1871), К. Ведля (Karl Wedl, 1815–1891), К. Людвига, К. Рокитанского; в Галле — в лаборатории В. Гайнца (Wilhelm Henrich Heinz, 1817–1880) и клинике Ю. Фогеля (Julius Vogel, 1814–1880); в Бреслау — у боготворимого им Ф. Фрерихса; в Париже — у А. Труссо, П. Пьорри, О. Гризолля. Он посетил лаборатории Э. Гоппе-Зейлера, К. Людвига и К. Бернара, институт Р. Вирхова, где повторно прослушал полный курс лекций великого патолога. С осеннего семестра 1859 г. адъюнкт‑профессор, а затем приват‑доцент Г. А. Захарьин читал студентам курс семиотики с перкуссией и аускультацией, а с 1860 г., став экстраординарным профессором, — курс общей терапии. В 1864 г. после ухода в отставку А. И. Овера и отказа К. Я. Млодзиевского Г. А. Захарьин стал ординарным профессором и директором факультетской терапевтической клиники.
По общему мнению, Г. А. Захарьин обладал редчайшей врачебной сенситивностью, наблюдательностью и интуицией, основанными на большой эрудиции. «Утонченное наблюдение, терапевтическая эмпирия, доведенная до высоты искусства, практицизм — основание как личной научно-врачебной, так и преподавательской деятельности Захарьина» (Д. Д. Плетнев, 1989). Именно наблюдательность дала ему возможность описать клиническую картину сифилиса сердца, сифилитической пневмонии и семиотику туберкулеза легких. «В этой тонкой семиотике болезни, в этой тщательной наблюдательности у постели больного, в изучении живого больного как такового, а не только формул лабораторного и инструментального исследования, — сила школы Захарьина…» (И. Д. Страшун, 1936). Сенситивность же позволяла ему отличать тонкие оттенки в рассказе больного. А эти нюансы после двухчасового расспроса, понимаемого «как творческий процесс выявления диагностических признаков основного заболевания и сопутствующих расстройств» (В. И. Бородулин, 1998), давали ему основание для распознавания страдания, хотя временами настойчивый расспрос выглядел как суггестия диагноза в бодрствующем состоянии (В. Д. Тополянский, 2008).
* * *
.jpg) Любопытно, что 30 лет спустя после смерти Г. А. Захарьина опытный земский врач писал: «„Захарьинская“ школа в деревне была бы обречена на полное бессилие, все приходится решать на основании объективных данных. Вот почему для деревенского хирурга вдвойне важно умение видеть, щупать, осязать, слышать. Вот почему нигде, может быть, так не нужно полное раздеванье больного, как в деревенской амбулатории» (К. В. Волков, 1926). Десять лет спустя в разделе «Медицина» БМЭ (1936) было опубликовано уже почти обличение в адрес Г. А. Захарьина: «Самобытность же и оригинальность Захарьина довольно условна. Его родословная идет через Овера и Мудрова к Гуфеланду. Если французский профессор Юшар… решил, что он открыл нечто новое, то только потому, что эмпирическая школа Гуфеланда к тому времени уже исчезла, по крайней мере, на кафедрах в передовых европейских университетах,… отсталость Москвы по сравнению с Петербургом отдавала предпочтение школе Захарьина». Объяснение, кажется, лежит в том, что в это время «набирало размах функциональное направление исследовательской деятельности и клинического мышления ведущих интернистов» (В. И. Бородулин, 1998), в которое «ретроград» Захарьин не вписывался, поскольку шел по пути «эмпирии и чистого наблюдения у постели больного» (Д. Д. Плетнев, 1989).
Любопытно, что 30 лет спустя после смерти Г. А. Захарьина опытный земский врач писал: «„Захарьинская“ школа в деревне была бы обречена на полное бессилие, все приходится решать на основании объективных данных. Вот почему для деревенского хирурга вдвойне важно умение видеть, щупать, осязать, слышать. Вот почему нигде, может быть, так не нужно полное раздеванье больного, как в деревенской амбулатории» (К. В. Волков, 1926). Десять лет спустя в разделе «Медицина» БМЭ (1936) было опубликовано уже почти обличение в адрес Г. А. Захарьина: «Самобытность же и оригинальность Захарьина довольно условна. Его родословная идет через Овера и Мудрова к Гуфеланду. Если французский профессор Юшар… решил, что он открыл нечто новое, то только потому, что эмпирическая школа Гуфеланда к тому времени уже исчезла, по крайней мере, на кафедрах в передовых европейских университетах,… отсталость Москвы по сравнению с Петербургом отдавала предпочтение школе Захарьина». Объяснение, кажется, лежит в том, что в это время «набирало размах функциональное направление исследовательской деятельности и клинического мышления ведущих интернистов» (В. И. Бородулин, 1998), в которое «ретроград» Захарьин не вписывался, поскольку шел по пути «эмпирии и чистого наблюдения у постели больного» (Д. Д. Плетнев, 1989).
Известно, что активно расспрашивали больного П. Луи и Ф. Шомель, а А. И. Овер, избегавший физикальных методов исследования, подвергал пациента настоящему допросу, поэтому новизна двухчасовой беседы Г. А. Захарьина, после которой больной выходил «как из бани», весьма относительна.
Бесспорно, Г. А. Захарьин хорошо владел физикальными методами исследования, но не они были приоритетом в его системе диагностики. Ох, как бы поспорили с ним Л. Траубе и Й. Шкода, Ч. Вильямс и Д. Хоуп, А. Труссо и П. Пьорри — диагносты не из последних! Более того, если врачи со времен Лаэннека пытались уйти от субъективного определения качеств пульса и появление сфигмографии было встречено медицинским сообществом с энтузиазмом, то Захарьин утверждал: «Сфигмография и сфигманометрия, не говоря уже об их крайнем неудобстве во врачебной практике, не могут заменить определения качеств (главное — силы) пульса, так же как и качеств артерии, осязанием» (Г. А. Захарьин, 1895). Во времена П. Потена это должно было восприниматься как младенческий лепет. В клинике Захарьина — надо полагать, «продвинутой» для российских реалий — даже в 1875 году не производилась плевральная пункция. Так вот и рождалась легенда о «самобытности» российской клиники! Интересны рассуждения Г. А. Захарьина на тему обучения физикальной диагностике: «Всякий симптом, на важность которого обращаю внимание, описываю, воспроизвожу, если возможно, звукоподражанием, демонстрирую на больном возможному числу слушателей, а приват-доценты упражняются в этом по вечерам». Известно, что свою аудиторию в 130 студентов Г. И. Захарьин делил на группы «для обстоятельного знакомства с приемами выслушивания и выстукивания и для постижения искусства „чтения“ лабораторных анализов» (В. И. Терновский, 1974).
* * *
В «Заметках об объективном исследовании» Г. А. Захарьин подчеркивал, что не следует смешивать диагностические и дидактические (семиотические) цели. Не все, что может интересовать семиотика, нужно диагносту. Опытный клиницист не будет проводить топографическую перкуссию легких или определять абсолютную сердечную тупость. Не станет он этого делать сейчас, не стал бы этого делать и сам Г. А. Захарьин. Несомненно, «во врачебном миросозерцании Захарьина преобладает тонкая семиотика, оттесняющая на задний план патогенез» (Л. Я. Скороходов, 2010). При этом Г. А. Захарьин подчеркивал: «Не все болезненные явления одинаково важны для диагностики, наоборот, число важных для диагностики болезненных явлений далеко менее числа вообще всех болезненных явлений. Если сравнить сумму последних, которую должен освоить студент при изучении семиотики, с тем ограниченным числом их, которым обходятся не только врачи, самые внимательные и добросовестные, в своей практике, но даже клиницисты, то окажется большая разница. Прибавлю, что не только во врачебной практике, но и в клинике самые методы исследования гораздо проще (без потери при этом своей верности), чем обыкновенно рекомендуемые учебниками и преподаванием семиотики». Но студент обязан этому научиться, поэтому он будет снова и снова повторять увиденное у преподавателя.
.jpg) Г. А. Захарьин подчеркивал значение тренировки в определении перкуторных границ органов и исследовании пульса. Он рекомендовал нижнюю границу печени и селезенки определять пальпацией, а верхнюю — перкуссией и т. д. Г. А. Захарьин предостерегал врачей от увлечения вспомогательными методами диагностики, предупреждая, что иначе врач легко может оказаться «мелочным семиотиком, жалким диагностом, а, стало быть, и немощным терапевтом» (Г. А. Захарьин, 1909).
Г. А. Захарьин подчеркивал значение тренировки в определении перкуторных границ органов и исследовании пульса. Он рекомендовал нижнюю границу печени и селезенки определять пальпацией, а верхнюю — перкуссией и т. д. Г. А. Захарьин предостерегал врачей от увлечения вспомогательными методами диагностики, предупреждая, что иначе врач легко может оказаться «мелочным семиотиком, жалким диагностом, а, стало быть, и немощным терапевтом» (Г. А. Захарьин, 1909).
Любопытная вещь: со студенческой скамьи мы знаем о «зонах Захарьина — Геда», но подтверждения, что Захарьин, якобы опередивший английского клинициста на 15 лет, имел какие‑либо публикации на сей счет, до сих пор не найдены (В. И. Бородулин, 2011) — в отличие от Г. Геда (Henry Head, 1861–1940), работа которого «On disturbances of sensation with especial reference to the pain of visceral disease» (1893, 1894, 1896) является классической. Конечно, Г. А. Захарьин был «эмпириком и утилитаристом чистой воды». Если С. П. Боткина обвиняли в недооценке анамнеза, то чего стоит оценка Захарьиным объективного состояния больного: «Объективное исследование не показывает ничего ненормального в дыхательных органах, в сердце и больших сосудах, так же как и в грудном ящике…». Пожалуй, для того, чтобы пересчитать симптомы, использовавшиеся Захарьиным в практике, хватило бы пальцев обеих рук! «Нежелание объяснить патогенез явлений, фармакодинамику лекарственной терапии характеризует не только Захарьина-преподавателя, но и Захарьина врача-мыслителя» (Д. Д. Плетнев, 1989). Не поставив диагноза больному, он нередко назначал симптоматическое лечение, причем назначал с видом оракула, жреца древних времен, что на темную московскую публику действовало сногсшибательно. Поневоле вспоминается знаменитая повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», поскольку прототип ее главного героя — тульский окружной прокурор и председатель Киевской судебной палаты Иван Ильич Мечников (1836–1881) — был пациентом Захарьина (повесть Толстого вышла в 1886 году). Там читаем: «…он поехал к знаменитому врачу... Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид. Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то‑то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезней слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествующе, весело даже, взглянул сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора. Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:
— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..
Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из зала заседания.
— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился» (Л. Н. Толстой).Ядовитое сравнение «захарьинского метода» с квазизначительной и запутанной юридической казуистикой! А вот что говорил сам Захарьин И. И. Мечникову, как бы в оправдание за то, что ободрал его брата как липку: «Вот говорят, будто я много беру. Если неугоден, пускай идут в бесплатные лечебницы, а мне ведь всей Москвы все равно не вылечить… В конце концов, Плевако и Спасович за трехминутную речь в суде дерут десятки тысяч рублей, и никто не ставит им это в вину. А меня клянут на всех перекрестках! Хотя жрецы нашей адвокатуры спасают от каторги заведомых подлецов и мошенников, а я спасаю людей от смерти… Не пойму — где же тут логика?»
* * *
Много позже наш выдающийся клиницист нарисовал «тип популярного московского врача‑практика. Он, действительно, как врач хорош: … тщательно исследует пациента, внимательно его расспрашивает, и потому его больные уважают (больным менее нравятся профессора, которым сразу все ясно и которые, по своей натуре, не склонны выслуживаться перед ними нарочитой длительностью беседы или скрупулезным осмотром для вида; больные не очень любят быстрых врачей, считают их поверхностными, а почитают тех, которые кряхтят, молчат, как бы думают, вновь и вновь повторяют вопросы, терпеливо выслушивают никчемные ответы и многозначительно пересыпают их восклицаниями: „Так-так“ или „Гм‑гм“)» (А. Л. Мясников, 2011). Встречая в 1888 г. делегацию французских врачей во главе с А. Юшаром, Г. А. Захарьин, хорошо владевший французским языком, произнес панегирик в адрес Р. Т. Лаэннека (любопытно, что в разговоре со своим верным последователем Г. А. Захарьин «скромно» именовал себя «реалистом в духе Лаэннека», ни больше ни меньше!) (В. Д. Тополянский, 2009).
Г. А. Захарьин вместе с Э.-В. фон Лейденом и П. М. Поповым был лечащим врачом императора Александра III. Интересно, что лейб-хирург, профессор Н. А. Вельяминов, принимавший участие в лечении императора и не любивший Г. А. Захарьина, упрекнул последнего: «Смертельная болезнь, поразившая Его (Александра III — Н. Л.) … не была-бы неожиданностью, если-бы врачи‑терапевты не просмотрели-бы у Государя громадное увеличение сердца (гипертрофия), найденное на вскрытии. В данном случае куда‑то подевалась способность великого клинициста к блиц-диагнозам, это все-таки не московским купцам слабительное в героических дозах назначать!
.jpg) «В головы слушателей внедряется симптоматическая, а не патогенетическая терапия», — пишет о Захарьине Д. Д. Плетнев. Своеобразно оценивал Захарьина младший современник: «Трепетали в доме пациентки — крупной и влиятельной богачихи московской — перед приездом Захарьина, точно ждали не благодетеля и целителя, а самого Ивана Васильевича Грозного со всею опричниною. Но — по усталому лицу его, угрюмому и презрительному, по взгляду, до оскорбительности небрежному, по враждебной, повелительной сухости обращения с пациенткою, родственниками ее, ассистентом своим и домашним врачом — можно было предположить совершенно обратное. Он казался человеком в состоянии крайнего удручения — и нравственного, и физического, чем-то жестоко и безнадежно раздраженным и срывающим свое гневное сердце на каждом встречном. Часов в доме он, вопреки сложившейся легенде, не останавливал, костылем не стучал, крепкими словами не ругался — он только презирал за что-то всех вокруг себя: и больную, и лечащих, и родных, с трепетом ждавших его решенья; говорил нехотя и таким злым тоном, точно все его несправедливо в чем-то обижают; съел и выпил что‑то особенное, заранее, по совету с его ассистентом, для него приготовленное, и при этом выразил благодарность за хозяйскую любезность гримасою самого неподдельного омерзения: угораздило же, мол, вас купить такую гадость — не могли найти лучше?.. Потом уехал, объявив больную безнадежною. Она, словно назло, взяла да и выздоровела.
«В головы слушателей внедряется симптоматическая, а не патогенетическая терапия», — пишет о Захарьине Д. Д. Плетнев. Своеобразно оценивал Захарьина младший современник: «Трепетали в доме пациентки — крупной и влиятельной богачихи московской — перед приездом Захарьина, точно ждали не благодетеля и целителя, а самого Ивана Васильевича Грозного со всею опричниною. Но — по усталому лицу его, угрюмому и презрительному, по взгляду, до оскорбительности небрежному, по враждебной, повелительной сухости обращения с пациенткою, родственниками ее, ассистентом своим и домашним врачом — можно было предположить совершенно обратное. Он казался человеком в состоянии крайнего удручения — и нравственного, и физического, чем-то жестоко и безнадежно раздраженным и срывающим свое гневное сердце на каждом встречном. Часов в доме он, вопреки сложившейся легенде, не останавливал, костылем не стучал, крепкими словами не ругался — он только презирал за что-то всех вокруг себя: и больную, и лечащих, и родных, с трепетом ждавших его решенья; говорил нехотя и таким злым тоном, точно все его несправедливо в чем-то обижают; съел и выпил что‑то особенное, заранее, по совету с его ассистентом, для него приготовленное, и при этом выразил благодарность за хозяйскую любезность гримасою самого неподдельного омерзения: угораздило же, мол, вас купить такую гадость — не могли найти лучше?.. Потом уехал, объявив больную безнадежною. Она, словно назло, взяла да и выздоровела.
Чудес Захарьин, конечно, не делал, — напротив, может быть, ни один врач не напутствовал к смерти стольких больных, как покойный Григорий Антонович, потому что приглашали его, как последнее прибежище, обыкновенно уже к совершенно безнадежным, in statu mortis [На смертом одре (лат.)]. Следующие за ним гости больного были духовник и гробовщик. Но к вечному ожиданию от себя чуда знаменитый доктор привык, привык и к раболепству, с каким толпа преклоняется пред чудотворцами. Что Захарьин был очень ученым человеком, не подлежит сомнению; что чрезвычайно умным и самолюбивым — также. Вооруженный всею силою положительного знания, умный, чуткий аналитик, он не мог не презирать эту суеверную массу, ждущую от него не законных и естественных, но сверхчеловеческих деяний. А так как по натуре своей он был не из мягких характеров, то и презрение сказывалось в формах резких, громких, кричащих. Жизнь то и дело ставила его в совсем ненаучные позиции мага и волшебника по медицинской части, выставляя его — как бы выразиться помягче? право, не подберешь другого выражения! — факиром, что ли, каким-то, только факиром не веры, но науки. Для человека самолюбивого и понимающего истинные смысл и объем своего знания, — позиция втайне обидная, положение раздражающее. И — когда Захарьин видел, что пациент пришел к нему не как к ученому, а как к знахарю, не за наукою, а за шарлатанством, — он выходил из себя и на свой образец мстил обществу, с злобною ирониею давал ему именно то, чего от него просили: шарлатанство в самой жреческой обстановке, с тысячами трагикомических подробностей, грубых и властных выходок человека, зазнавшегося в уверенности, что без него пациенту — не дохнуть» (А. А. Амфитеатров, 1915).
…«Мода» на Захарьина возникла снова в 1949 году, на волне «борьбы с безродными космополитами». С тех пор много лет благостный портрет изобретателя анамнестического метода диагностики и филантропа Г. А. Захарьина кочует из учебника в учебник, и только в последнее время к нему добавилась существенная «ложка дегтя». Безупречные черты клинициста «без страха и упрека» замутились, прежде всего, тем, что его поведение явно отклонялось от неписаных законов профессиональной этики и деонтологии, о которых так много и бесплодно говорится. «Отец» анамнеза бывал то странным и эксцентричным, то неуравновешенным и капризным, то даже истеричным и хамоватым, напоминая чеховского Ионыча. Но главное — самый известный врач Москвы совсем не ассоциировался с Ф. П. Гаазом и был непревзойденным мздоимцем (пусть мзда эта и называлась гонораром), наглядно показавшим, что «медицина — это ремесло личного обогащения» (В. Д. Тополянский, 2008).
«Врачи-практики, стоящие на виду у общества, влияют на него не столько своими проповедями, сколько своей жизнью. Захарьин, поставивший своим идеалом жизни золотого тельца, образовал целую фалангу врачей, первой задачей которых было набить как можно скорее свои карманы», — писал С. П. Боткин. Не изменилась ситуация (по крайней мере, реакция современников) и 20 лет спустя: «Московские медики вообще образовались под руководством Захарьина на принципах наживы и, чтобы больше брать, устраивают осмотр в несколько часов. Ни для чего другого вся эта комедия, изобретенная Захарьиным» (А. С. Суворин, 1893). Да, С. П. Боткин, напротив, славился бескорыстием, но это скорее исключение. Известно, что Г. Бургаве требовал с больных баснословные гонорары, и попасть к нему на домашнюю консультацию могли позволить себе лишь очень состоятельные люди. Преклонявшийся перед Гиппократом Корвизар брал за свои визиты звонкой монетой (наполеондорами — золотыми монетами (ок. 5 гр.), эквивалентными 20 франкам), а Дюпюитрен и Шарко благодаря частной практике стали миллионерами, но это было в порядке вещей! Видимо, скопидомство Захарьина слишком явственно отталкивающе выступало в бедной по сравнению с Европой стране, в которой всем, включая врачей, полагалось быть нищими… Но курьез в том и состоит, что терапевтический «набор» Г. А. Захарьина был ничтожен. Он тогда и не мог быть иным, но Захарьин был слишком умен, чтобы его не отнесли (как Шкоду!) к числу «врачей-нигилистов», так что гонорар он брал за «пытку» расспросом, назидательный тон и усиленную демонстрацию напряженного размышления о судьбе пациента (в клинике Захарьина неимущие больные так же получали каломель, как и состоятельные купцы при частных визитах великого клинициста).
.jpg) Удивительно, но выдающийся клиницист, наш современник восхищался тем, что Г. А. Захарьину была «ясна условность классификации болезней по пораженному органу и системам: он глубоко критически относится к объединению Эйхгорстом в раздел «болезни крови» таких различных заболеваний, как лейкемия, злокачественное малокровие, хлороз, пурпура, гемоглобинурия, меланемия. „Почему же не относить тогда, — задает вопрос Г. А. Захарьин, — к болезням крови малярию, холемию, уремию?“» (Е. М. Тареев, 1955). То же касается и «половой» трактовки Г. А. Захарьиным хлороза, что Е. М. Тареев противопоставляет «зарубежным авторам» середины XX века, полагавшим, что в основе страдания лежит железодефицитная анемия, и подчеркивает гениальную прозорливость Захарьина ! Но мы‑то знаем, что был абсолютно прав Герман Эйхгорст и «зарубежные авторы», а не Г. А. Захарьин, это в середине прошлого века было уже абсолютно ясно, так что рассуждения о «приоритете» выглядели в свете «борьбы с космополитами» наивной лестью — не Захарьину, конечно, а «продвинутой» (куда?) отечественной медицине. То же касалось и игнорирования Григорием Антоновичем желудочного зонда. Как дело развивалось дальше? А дальше на Западе на смену зонду пришел «жесткий» гастроскоп, а много лет спустя — фиброскопия. Ну не по анамнезу же (по синдрому «малых признаков») мы должны выявлять «молчащий» рак желудка с «дометастатическим благополучием»! И геморрой, по мнению великого клинициста, имеет «ангионевротический» генез, подобно мигрени, что, по мнению (тогдашнему!) Е. М. Тареева, очень прогрессивно.
Удивительно, но выдающийся клиницист, наш современник восхищался тем, что Г. А. Захарьину была «ясна условность классификации болезней по пораженному органу и системам: он глубоко критически относится к объединению Эйхгорстом в раздел «болезни крови» таких различных заболеваний, как лейкемия, злокачественное малокровие, хлороз, пурпура, гемоглобинурия, меланемия. „Почему же не относить тогда, — задает вопрос Г. А. Захарьин, — к болезням крови малярию, холемию, уремию?“» (Е. М. Тареев, 1955). То же касается и «половой» трактовки Г. А. Захарьиным хлороза, что Е. М. Тареев противопоставляет «зарубежным авторам» середины XX века, полагавшим, что в основе страдания лежит железодефицитная анемия, и подчеркивает гениальную прозорливость Захарьина ! Но мы‑то знаем, что был абсолютно прав Герман Эйхгорст и «зарубежные авторы», а не Г. А. Захарьин, это в середине прошлого века было уже абсолютно ясно, так что рассуждения о «приоритете» выглядели в свете «борьбы с космополитами» наивной лестью — не Захарьину, конечно, а «продвинутой» (куда?) отечественной медицине. То же касалось и игнорирования Григорием Антоновичем желудочного зонда. Как дело развивалось дальше? А дальше на Западе на смену зонду пришел «жесткий» гастроскоп, а много лет спустя — фиброскопия. Ну не по анамнезу же (по синдрому «малых признаков») мы должны выявлять «молчащий» рак желудка с «дометастатическим благополучием»! И геморрой, по мнению великого клинициста, имеет «ангионевротический» генез, подобно мигрени, что, по мнению (тогдашнему!) Е. М. Тареева, очень прогрессивно.
Примечательно, что влияние Захарьина находило особый отклик в среде земских врачей, которым теоретическое направление школы Боткина представлялось слишком сложным. Хотя мнение одного из них мы привели выше.
* * *
Думается, что эмпирическая процедура беседы с больным, предложенная Г. А. Захарьиным, возводится в ранг высокого достижения потому, что позволяет говорить о каком-то реальном вкладе российской клиники внутренних болезней XIX века в мировую медицину. Однако кажется, что в конце его жизни действовал уже только авторитет имени тайного советника Захарьина… «Часто ведь действуют имена (очевидно, в связи с прошлыми заслугами), а что в данное время говорят или делают носители этих имен, имеет уже меньшее значение», — пишет выдающийся клиницист (А. Л. Мясников, 2011).
Оставалисьвозгласы о безупречном распознавании им болезней, легенды о поставленном без осмотра диагнозе «опущения почки» и о прочих чудесах. Трудно сказать, насколько это было гиперболизировано. Абсолютное большинство пациентов Г. А. Захарьина лечилось на дому, в случае их смерти патологоанатомическое исследование не проводилось, и невозможно сказать, насколько безошибочно он ставил диагнозы с помощью знаменитого метода… У великих клиницистов и ошибки великие! Но одна ошибка Г. А. Захарьина точно пошла российской медицине впрок: из-за неправильного диагноза, поставленного его матери «московским оракулом», стал врачом С. С. Зимницкий.
Запустивший учебный процесс и вынужденный уйти в отставку из-за бойкота, объявленного студентами (его лекции посещали 11 слушателей), Г. А. Захарьин внезапно умер от инсульта в 1897 году.
Справедливости ради замечу, что Г. А. Захарьин критичного отношения к себе лишен все же не был. Проезжая мимо Ваганьковского кладбища, он всегда отворачивался и закрывал руками лицо. По этому поводу у него был такой диалог с А. А. Остроумовым:
«— Григорий Антонович! Да что это вы, зачем так делаете?
— Лежащих там стыжусь, — признался ему Захарьин.
— Но почему?
— Так ведь, батенька, неловко. Многие из них у меня лечились!»
Н. Ларинский, 2011–2015

