
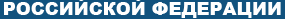


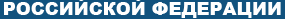


ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) — хроническое воспалительное заболевание дыхательной системы, возникающее под воздействием различных экологических факторов, главным из которых является курение. Заболевание характеризуется неуклонным прогрессированием и постепенным снижением функции легких с развитием хронической дыхательной недостаточности.


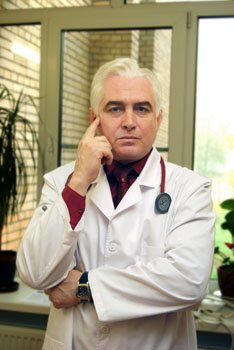
Какую богатую коллекцию болезней создала эта отвратительная алчность буржуазии! Женщины, неспособные рожать, дети-калеки, слабосильные мужчины,…целые поколения, обреченные на гибель, изнуренные и хилые, — и все это только для того, чтобы набивать карманы буржуазии!
Ф. Энгельс
Лет тридцать назад эта тирада классика марксизма приводилась в ряду обличений капитализма и для иллюстрации реальных достижений социализма. Теоретики медицины приводили цитаты и «покруче», отстаивая тезис, что медицинская деятельность (на Западе!) стала источником средств существования для определенной профессиональной группы людей — медиков. Предмет их деятельности — страдания человека — превратился в источник дохода, т. е. стал абсолютно антигуманным! Обычно, было принято приводить слова Ш. Фурье: «Всякий трудящийся находится в состоянии войны с массой и неблагожелателен к ней в силу личного интереса. Врач желает своим согражданам добрых лихорадок, а поверенный — добрых тяжб в каждой семье. Архитектору нужен добрый пожар, который превратил бы в пепел четвертую часть города, а стекольщик желает доброго града, который разбил бы все стекла…» И действительно, метеорит в Челябинске, разбив кучу стекол, дал хороший барыш стекольщикам, каждый гололед набивает карманы мастерам кузовного ремонта, даже взрыв в Домодедове обогатил алчных московских «бомбил». В этом смысле и наркологи совершенно не заинтересованы в том, чтобы россияне превратились в ангелов‑трезвенников, ведь «выведение из запоя», которое широко рекламируется, есть вовсе не лечение зависимости, а «промывка организма» и подготовка его к новому абузусу! Нескончаемый гонорар! В условиях, когда отношения врача и больного построены на рыночных основах, докторам приходится бороться за клиентуру, которая и обеспечивает им доход. Врач становится предпринимателем, а профессия — бизнесом. Бороться против болезней или жить за счет заболеваемости — вот гамлетовский вопрос, который раньше считали «трагическим замкнутым кругом», очерченным ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕЙ БУРЖУАЗНОЙ МЕДИЦИНОЙ! Правда, теперь у нас есть и своя буржуазия.
Советская система медицинской помощи была направлена на удовлетворение потребностей всего населения, а капиталистическая — конкретного больного, причем давав ему даже больше, чем он ожидал, имея в виду ятрогенную патологию. Это вполне касалось и социалистической медицины! Советские теоретики полагали, что истинная потребность каждого человека не быть вылеченным, а быть здоровым, дескать, капиталисты считают здоровье частным делом каждого индивида, и потому движущая сила развития медицины на Западе — стихийная обращаемость населения к врачам в случае заболевания. Врач-предприниматель не стремится к тому, чтобы человек достиг состояния здоровья как «полного физического, психического и социального благополучия», а больные и не ждут от него этого, а хотят, чтобы он устранил или облегчил страдания. А если этого не происходит, то, как гласит остроумный афоризм, больной отправляется к священнику или мануальному терапевту (M. Gelfand,1968). Попытки социализации медицины на Западе, кроме Англии, долгое время считались несостоятельными, а советское здравоохранение представлялось эталонным. Государство держало все нити управления в своих руках, и альтернативы этому не просматривалось. «Медицина при социализме существует для народа, а народ, в свою очередь, делает все возможное для развития медицины» (О. П. Щепин, Г. И. Царегородцев, В. Г. Ерохин, 1983).

У капиталистов все было, как активно внушалось, «запущено», вообще буржуазная цивилизация — это «машина, фабрикующая потребности, в которых нет потребности». Из этого неожиданно вытекал вывод, что даже если капиталисты займутся профилактической медициной, то она будет… навязываться человеку, как любой другой товар! То есть страховщики на Западе заинтересованы страховать пациентов на высокотехнологичные (и дорогостоящие!) виды медицинской помощи, а не на обычную амбулаторную. Система профилактических осмотров даст основания отказаться от страховки вообще (иной пациент компанию разорит своими болезнями!), работодатель, используя данные профосмотров, будет дискриминировать при приеме на работу человека с плохим здоровьем и т. д. Вот так представлялась «инвентаризация здоровья», или диспансеризация «по‑капиталистически»! Поскольку такая система с 1917 года нам была органически противопоказано, медицинские мудрецы начиная с Н. А. Семашко посчитали, что наилучшей формой синтеза лечебной и профилактической медицины оказывается диспансеризация. Это означало отказ от регистрации стихийной обращаемости населения в ЛПУ и предполагало уже «выявление заболеваний на ранних стадиях; изучение и устранение причин, способствующих их возникновению и распространению; целенаправленное проведение социальных, лечебно-оздоровительных, санитарно‑гигиенических и технических мероприятий, направленных на улучшение условий внешней среды, труда и образа жизни людей». Я оказался не только современником тех событий, но и непосредственным их участником, поэтому не понаслышке знаю, как это осуществлялось и к каким практическим результатам привело. Декларируемая цель диспансеризации — достижение максимального контроля за состоянием здоровья населения, главное средство реализации — синтез лечебной и профилактической работы, определяющий метод — активное динамическое наблюдение (контроль) и управление образом жизни людей. Напомню, главный ленинский принцип социализма — учет всего и контроль за всем. Минздрав должен был осуществить контроль за физическим состоянием народа и ставить страдальцев на учет в поликлиниках или диспансерах, которых тогда в стране насчитывалось соответственно 36 тысяч и 3 000 по 8 группам заболеваний. Самое интересное, что очень умные люди писали: «…принципиальная схема организации медицинской деятельности по диспансерному типу, видимо, не изменится в сколько‑нибудь обозримом будущем, даже при коммунизме». Они всерьез считали, что в обозримом будущем будет построен коммунизм, и это всего за два года до Горбачева! Откуда взялся этот дутый оптимизм, непонятно: в 1976 г. на диспансерном учете состояло почти 37 млн человек, профосмотры прошли почти 108 млн., а в 1979 году 43 и 112 млн человек соответственно. Что это означало? Это означало, что при таких темпах прироста (3-4 млн человек в год) все население страны (около 220 млн) должно проходить диспансеризацию несколько десятков лет, включая и профилактические осмотры! К тому времени, когда ее закончили бы, половина взятых на учет ушла бы в лучший мир! Вообще, постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению народного здравоохранения» хронологически совпало с окончательным развитием маразма у Л. И. Брежнева (1977 г.), который уже вряд ли отдавал себе отчет в реальности. Но другие-то, в том числе новый министр здравоохранения СССР С. Буренков, должны были отдавать! Ясно, что даже в теории для выполнения этой задачи (полной, конечно, утопии) необходимы были несколько условий:
1) совершенно непривычная для нас форма медицинского обслуживания здоровых людей;
2) понимание того, что цель диспансеризации — это именно динамический контроль за состоянием общественного здоровья, а не охват всего без разбора населения теми или иными формами медицинского обслуживания. Это, в свою очередь, предполагало наличие дифференцированной и четкой программы диспансеризации каждой группы населения;
3) введение «паспортов здоровья» и даже централизованных банков информации (как тогда, без компьютеров и Интернета, предполагали это сделать, ума не приложу!) о состоянии здоровья всех и каждого. В реальности (как и сейчас) сплошь и рядом амбулаторные карты терялись, а информация о профилактических осмотрах дублировалась, в связи с чем (я был очевидцем упорного приглашения на флюорографию в рамках планового осмотра человека, который умер пять лет назад!) некоторые граждане оказывались «подпоручиками Киже» для диспансеризации;
4) осознание того, что бесплатность всех мероприятий для объекта диспансеризации совершенно обесценивает в его глазах всю эту суету и беготню. Усилия врачей и медиков вообще разбивались о неправильное (нездоровое) людское поведение, об уклонение от профилактических и лечебных мероприятий (да и сейчас ситуация не только не изменилась, но еще больше усугубилась ). А теперь к этому неизбежно должно присоединиться сопротивление владельцев бизнеса, к которым относится большинство современных работодателей.
Тут возникает еще масса вопросов. Например: а какова во всем этом роль еще существующих областных (в крупных городах и городских) диспансеров? Каким должен быть их вклад в проведение единственного мероприятия, которое хоть как-то оправдывало бы их существование? Собственный опыт работы в условиях еще советской диспансеризации убедил меня в очевидной вещи: самая простая мысль может оказаться трудной для усвоения, а тем более для претворения в действительность, если она только декларируется, а не реализуется в повседневной врачебной практике! Ведь тогда, как и сейчас, сами учреждения, весомо называющиеся диспансерами, либо в диспансеризации совсем не участвовали, либо переваливали ее на «хлипкие плечи» участковой службы, которая у нас привычно «отвечает за все». В советские времена понимали, что экстенсивный рост системы здравоохранения не беспределен, но тогда по расчетам выходило, что у нас один врач на 270 жителей (лучший в мире показатель!). А поскольку полагали, что большая часть населения нуждается лишь в периодическом наблюдении и контроле состояния здоровья, то всеобщая диспансеризация при тогдашнем числе врачей представлялась вполне подъемной. Однако тогда еще существовали и строились новые медико-санитарные части предприятий, ведомственные поликлиники, женские и детские консультации, а в 1979-1985 гг. должна была вырасти сеть кардиологических диспансеров. В мечтах носились, да так там и остались пульмонологические, аллергологические и гастроэнтерологические диспансеры. Но и тогда все взоры были обращены к так называемому первичному звену здравоохранения — амбулаторно-поликлиническому. Именно оно должно было стать «мотором» для повышения эффективности всей медицинской службы. Говорили еще о какой-то интеграции медицинских учреждений на базе первичного звена и создании крупных медицинских центров, «совмещающих в своей работе лечебную, диагностическую, профилактическую, консультационную, научно‑исследовательскую и санитарно‑просветительскую функции». Вспоминается старый анекдот о еврее, который пришел в райком партии и спросил: «Где это?»«Что это?» «Ну, это?» «Да что это?» «А вот как в песне пели: «И как один умрем в борьбе за это». Вот я и хочу увидеть это!» Вот и хочется спросить: где это?
 Ясно, что и в то время диспансеризация не могла осуществляться за счет простого расширения охватываемых групп населения. Каждому понятно, что массовый профосмотр даже на одном предприятии — дело громоздкое, хлопотливое и затратное. И совершенно очевидно, что весь пар уходит в свисток: эффект такой канители невелик (это уже давно поняли капиталисты). Не случайно они говорят о том, что надо лечить две трети выявленных гипертоников, а не гоняться за невыявленной третью! Мы же убеждены, что раннее выявление заболевания — залог успешной терапии. Даже в онкологии на диагностику ранее неизвестного случая патологии (согласно подсчетам 1983 года) должно было уйти два с половиной месяца, а в дерматовенерологии — больше 20 дней. И тогда предложили использовать для расширенных периодических осмотров населения любой повод для обращения к врачу, т. е. дед Щукарь в «Поднятой целине» Шолохова пришел очки выписать, а угодил в отделение для лечения заболеваний, передающихся половым путем! Стали давить и по линии приема на работу. Стало обязательным иметь при себе соответствующую справку, а при обращении за нею врачи должны максимально опрашивать и обследовать больного. Но не следует забывать, что тогда административные рычаги были куда более эффективны, менее скрипучи (и менее загребущи!), чем сейчас. В 1981 году решили в поликлиниках мощностью свыше 500 посещений в смену организовать отделения первичной профилактики, в которых должны быть кабинеты организации диспансеризации, смотровые, прививочные и даже… анамнестические! Оно и понятно, ведь при профилактических осмотрах с учетом всей их затратности выявляемость заболеваний минимум в два раза выше, чем при первичной обращаемости. Но сколько при этом было холостых усилий и как бездарно терялась и не разумно утилизировалась вся полученная разными способами и с разными целями информация о состоянии общественного здоровья! Беда еще и в том, что перестройка системы здравоохранения не была, по сути, начата до той перестройки всего и вся, которую затеял неутомимый М. С. Горбачев.
Ясно, что и в то время диспансеризация не могла осуществляться за счет простого расширения охватываемых групп населения. Каждому понятно, что массовый профосмотр даже на одном предприятии — дело громоздкое, хлопотливое и затратное. И совершенно очевидно, что весь пар уходит в свисток: эффект такой канители невелик (это уже давно поняли капиталисты). Не случайно они говорят о том, что надо лечить две трети выявленных гипертоников, а не гоняться за невыявленной третью! Мы же убеждены, что раннее выявление заболевания — залог успешной терапии. Даже в онкологии на диагностику ранее неизвестного случая патологии (согласно подсчетам 1983 года) должно было уйти два с половиной месяца, а в дерматовенерологии — больше 20 дней. И тогда предложили использовать для расширенных периодических осмотров населения любой повод для обращения к врачу, т. е. дед Щукарь в «Поднятой целине» Шолохова пришел очки выписать, а угодил в отделение для лечения заболеваний, передающихся половым путем! Стали давить и по линии приема на работу. Стало обязательным иметь при себе соответствующую справку, а при обращении за нею врачи должны максимально опрашивать и обследовать больного. Но не следует забывать, что тогда административные рычаги были куда более эффективны, менее скрипучи (и менее загребущи!), чем сейчас. В 1981 году решили в поликлиниках мощностью свыше 500 посещений в смену организовать отделения первичной профилактики, в которых должны быть кабинеты организации диспансеризации, смотровые, прививочные и даже… анамнестические! Оно и понятно, ведь при профилактических осмотрах с учетом всей их затратности выявляемость заболеваний минимум в два раза выше, чем при первичной обращаемости. Но сколько при этом было холостых усилий и как бездарно терялась и не разумно утилизировалась вся полученная разными способами и с разными целями информация о состоянии общественного здоровья! Беда еще и в том, что перестройка системы здравоохранения не была, по сути, начата до той перестройки всего и вся, которую затеял неутомимый М. С. Горбачев.
Сейчас, когда народ все чаще стал выказывать недовольство властью, вдруг вспомнили, что Россия — «социальное» государство. Ну нельзя же, в самом деле, назвать страну асоциальной. Такими могут быть бомжи и всяческие маргиналы, а государство, которое модернизируется и одной ногой уже стоит в… светлом будущем, может быть только социальным! Мы уже забыли, что в советские времена, между прочим, профилактическая направленность здравоохранения была главным преимуществом перед капиталистами и считалась «нашим основным козырем в идеологической борьбе». Но раньше идеологическая борьба велась с противниками в холодной войне, а сейчас борются с собственными гражданами путем навешивания лапши, уверяя в том, что нечто, построенное на обломках «империи зла», — оптимальный из возможных вариантов, лучше и быть не может! Здравоохранение и образование, бесплатные и общедоступные, хотя убогие и несовершенные, были одним из козырей большевиков (ведь речь шла об устранении зримого вещественного неравенства), доказательством гуманности социалистического общества. Врач на приеме интересовался здоровьем человека, а не его платежеспособностью. Объем и очередность оказания помощи тоже от толщины кошелька не зависели. Но это было первым шагом (все остальное было обманом: «Заводы — рабочим, землю — крестьянам, мир — народам»), а потом надо было сделать шаг шире и показать, что государство нелицемерно хочет улучшить не только положение больных, но и здоровье здоровых. Этому и должна была послужить диспансеризация, которая (в идеале) способствовала бы профилактике заболеваний (или заболеваемости) тех или иных групп населения (перинатальная диагностика, вакцинация, изменение образа жизни, улучшение экологии и социально-экономических условий существования), предотвращение осложнений и хронизации болезней, профилактике обострений уже имеющейся хронической патологии, предупреждение инвалидности, движению от здоровья к еще большему его укреплению (управление здоровьем и его конструирование). Ясно, что мы взяли «то, что ближе лежало»: борьбу за экологию, борьбу с инфекциями, рекомендации «не пей, не кури, не переедай, не переутомляйся, сделай секс безопасным, занимайся утренней гимнастикой, не играй в карты (сидячий образ жизни) и т. д.». К. Маркс о такой жизни сказал: «Разве не желательнее смерть, нежели жизнь, состоящая только из мер предупреждения против смерти?». В самом деле, разве врачи могли остановить развитие производства, в том числе экологически вредного, так же, как остановили оспу и чуму? Да и вообще, в чьих силах освободить человека от действия всех патогенных факторов? Да и знаем ли мы про них все? Кто может изменить явно патологическую наследственную детерминированность? В XX веке таким «волшебником» была — Коммунистическая партия Советского Союза! Именно она обеспечивала свободное и гармоничное развитие личности. Именно она определяла, что должно быть главной составляющей профилактики (помните стишок: «Если женщина в постели хороша и горяча, В том заслуга дорогого Леонида Ильича!»).

Партии ведь чужды были какие-либо цели, исходящие из интересов народа, но диспансеризация членов Политбюро ЦК КПСС и простых работяг — это были «две большие разницы»! Тут как раз действовал буржуазный принцип: небольшой круг лиц получает высококачественный медицинский сервис, основная же масса населения обслуживается «быстро, но плохо», вплоть до явного суррогата медицинской помощи. Но самое главное не в этом. Ясно, что в стране, где миллионы людей прошли через лагеря и войны, где не о рациональном питании надо было говорить, а просто о том, чтобы поесть, где были бараки, коммуналки и прочие «пережитки капитализма», население не могло быть и не было в массе своей здоровым, что и показывали результаты диспансеризации. Но тогда администрация предприятий была обязана (до известного предела) учитывать рекомендации врачей об изменении характера работы, существовала сеть санаториев‑профилакториев на предприятиях, какие-то комнаты психологической разгрузки и т. д. Был реальный контроль за техникой безопасности и охраной труда. Тут профилактика срабатывала как «от среды к человеку», так и «от человека к среде». Существовала и дисциплина «Гигиена труда», целью которой был переход «от техники безопасности к безопасной технике». Делались попытки организации трехступенчатой системы реабилитации поликлиника—стационар—отделение долечивания (санаторий). Все было в руках государства, и, конечно, что-то делалось, хотя реальные цифры заболеваемости и первичного выхода на инвалидность были удручающими и всячески скрывались и затушевывались. Сейчас ситуация иная: для федерального и регионального правительства идеальной целью (для успокоения народа, разумеется: чиновники-то сами даже не в ЦКБ поедут, а в Германию или Израиль полетят лечиться!) было бы достижение хороших медико-статистических показателей здоровья при умеренных расходах, а лучше и вообще без оных! Двадцатилетний опыт реформ показывает пока, что не только эти цели хотя бы в миллиграммовой дозе не приблизились, но не достигнуто главное условие эффективности функционирования системы здравоохранения — упорядоченность (в данном случае приведение формы удовлетворения общественной потребности в медицинской деятельности в соответствие с содержанием этой потребности). Говоря о диспансеризации, можно с известной степенью достоверности предсказать ее результаты, которые будут еще хуже, чем в 1986 году. Но интересно, кто, как и, самое главное, за чей счет будет дальше «разруливать» проблемы, которые неизбежно обнаружатся (при большевиках, между прочим, было 15 млн мест в детских садах!)? Нагрузка при проведении диспансеризации на и без того трещащие от «электронных регистратур» и порожденных ими очередей поликлиники возрастет, а что делать-то (кроме рекомендации «мяса не кушайте») с выявленными больными? Есть ли возможность при скрининге выявлять донозологические формы заболеваний? У половины больных — психосоматические расстройства. Готовы ли участковые врачи выявлять аффективные нарушения и алекситимию? В общем, список вопросов и воспоминания о диспансеризации 80-х создают впечатление, что «инвентаризация здоровья» для нас — это «каменный гость». Помните последнюю сцену «Каменного гостя» Пушкина?
Каменный гость: Дай руку.
Дон Гуан: Вот она… о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти — пусти мне руку…
Я гибну — кончено — о Дона Анна!
Проваливаются.
Вот именно так закончились предыдущие 9 или 10 (никто точно сказать не может) попыток диспансеризации. И ясно почему. Констатировали, что народ нездоров, а сейчас еще и стар (13 % населения старше 65 лет, а для признания старым населением нужно 7 %), но, чтобы сделать его здоровым, нужно то, чего государство дать никак не может: достойную заработную плату и пенсии, нормальное жилье и экологию, здоровую пищу и воду (хотя бы йодированную соль и фторированную воду), эффективные и доступные по цене лекарства (во всем мире переходят к персонализированному лечению, а у нас до сих пор стандарты, включающие устаревшие препарата), дома престарелых и санаторное лечение, высокотехнологичную и качественную медицинскую помощь. Что вместо этого, известно, а я еще не сказал о чисто врачебных проблемах. Складывается впечатление, что решения принимаются лунатиками, которые привозят с собой вот таких «каменных гостей»…
Н. Ларинский, 2013


Вий
Самое страшное, что в мероприятия "на бумаге" стали обычной составляющей медицинской действительности. Системой. Левые отчеты, завышенные показатели, мертвые души в документах. Все об этом знают, все - от санитарки до министра. О 60% уже отчитались. Смешно и грустно.
Дата: 2013-09-28 09:11:07
nic
Роман, я бы л непосредственным исполнителем всеобщей диспансеризации в двух ипостасях: как цеховый врач (притом это были машинисты ж.д.-самый ответственный контингент тогда) и как участковый врач (это УОВ, ИОВ и пенсионеры - там было проще. Это были осмотры врачебные, флюорография, гинеколог, ЭКГ в покое. Никаких УЗИ, биохимии и т.п.Количество: больше тысячи работающих и около пятисот неработающих. И как раз в моих рассуждениях никакая польза ни тогда не предусматривалась, ни сейчас, где Вы это прочитали? Глубокий скептицизм и ничего более. Здоровье это интегративный, а не количественный показатель и нормы - самое сложное, что есть в медицине. Тонкие отклонения гомеостаза ничем и никем не определяются, а, между тем, накопившись они и дают внезапную смерть и сердечные катастрофы. Я не думал и не думаю, что "просеивание" существенно сказывается на вылавливании болезней, а обсуждаю приемлемость идеи и ее реализацию, а точнее - нереальность, только так и надо все это трактовать.
Дата: 2013-08-28 11:38:33
Nik
другого выхода как делать ее на бумаге НЕТ!!! сами посудите, если еще треть всего населения нашей необъятной родины ломанется в и так переполененные поликлиники с их бесконечными очередями, отсутствием врачей, талонами и прочими заморочками. деятельность мед. учреждений будет блокирована. они просто не смогут оказывать хоть какую то помощь.а что потом придется делать со всем выявленными болячками у прошедших "диспансеризацию"? это же лекарства, госпитализация, дальнейшее обследования. объемы будут расти многократно. медицина итак дышит через раз, а это ее только добьет. вот и выходит что всем интересно выполнение плана только на бумаге.
Дата: 2013-08-28 08:42:57
Roman
Ой-ой, Николай Евгеньевич, редкая птица долетит до финала Вашего текста... Раньше Вы тексты объемные на главы разбивали, удобнее было читать. А мысли верные все. Но Вы упустили важнейший элемент современной диспансеризации, который в советские времена не так был заметен. Это изрядная (если не абсолютная) доля профанации. На входе программная задача и план, на выходе отчет с нужными цифрами. Что между — значения не имеет. Современная диспансеризация делается на бумаге, а не в кабинетах врачей. Поэтому рассуждения об эффекте для здоровья населения — не для новейшей истории медицины.
Дата: 2013-08-28 00:03:11